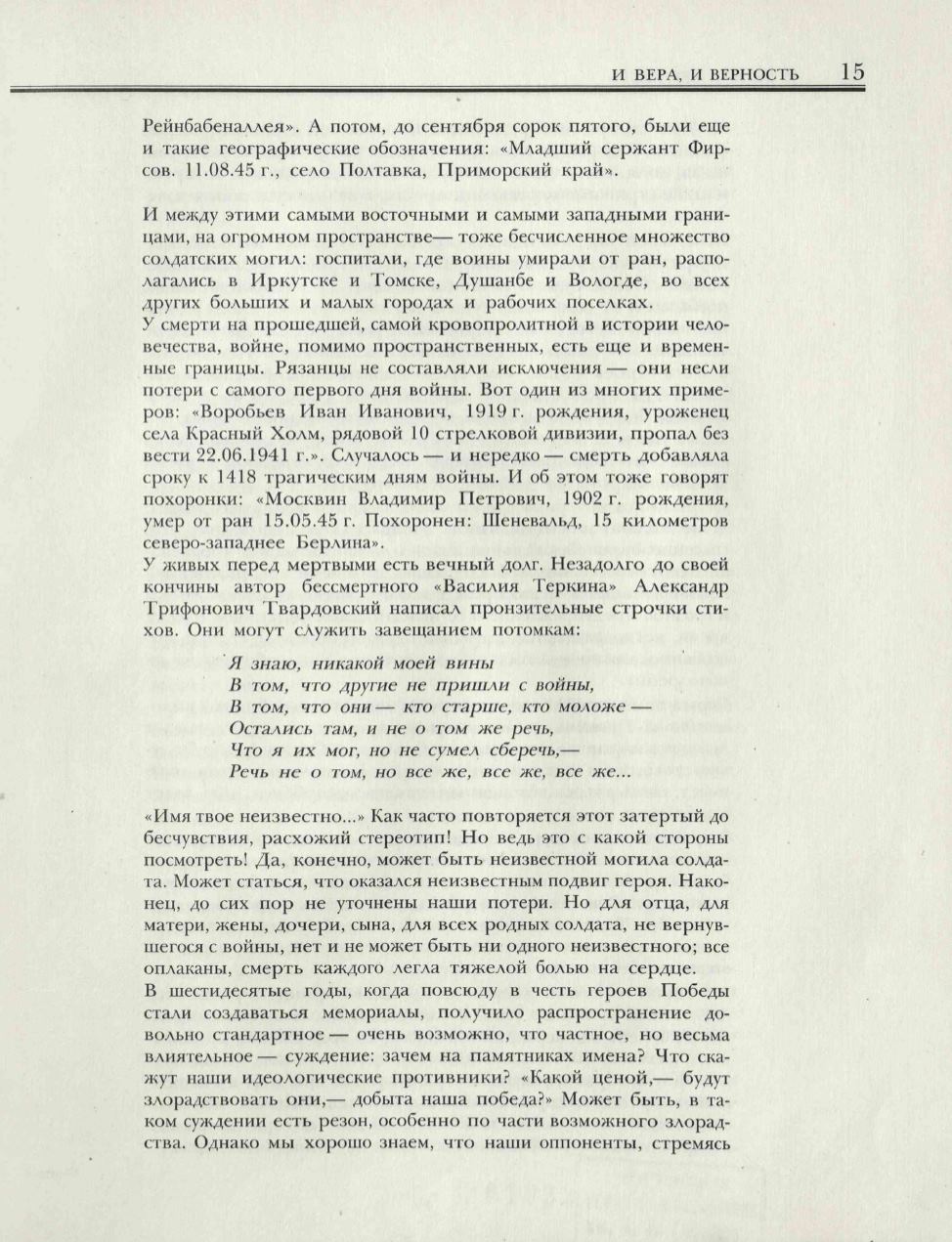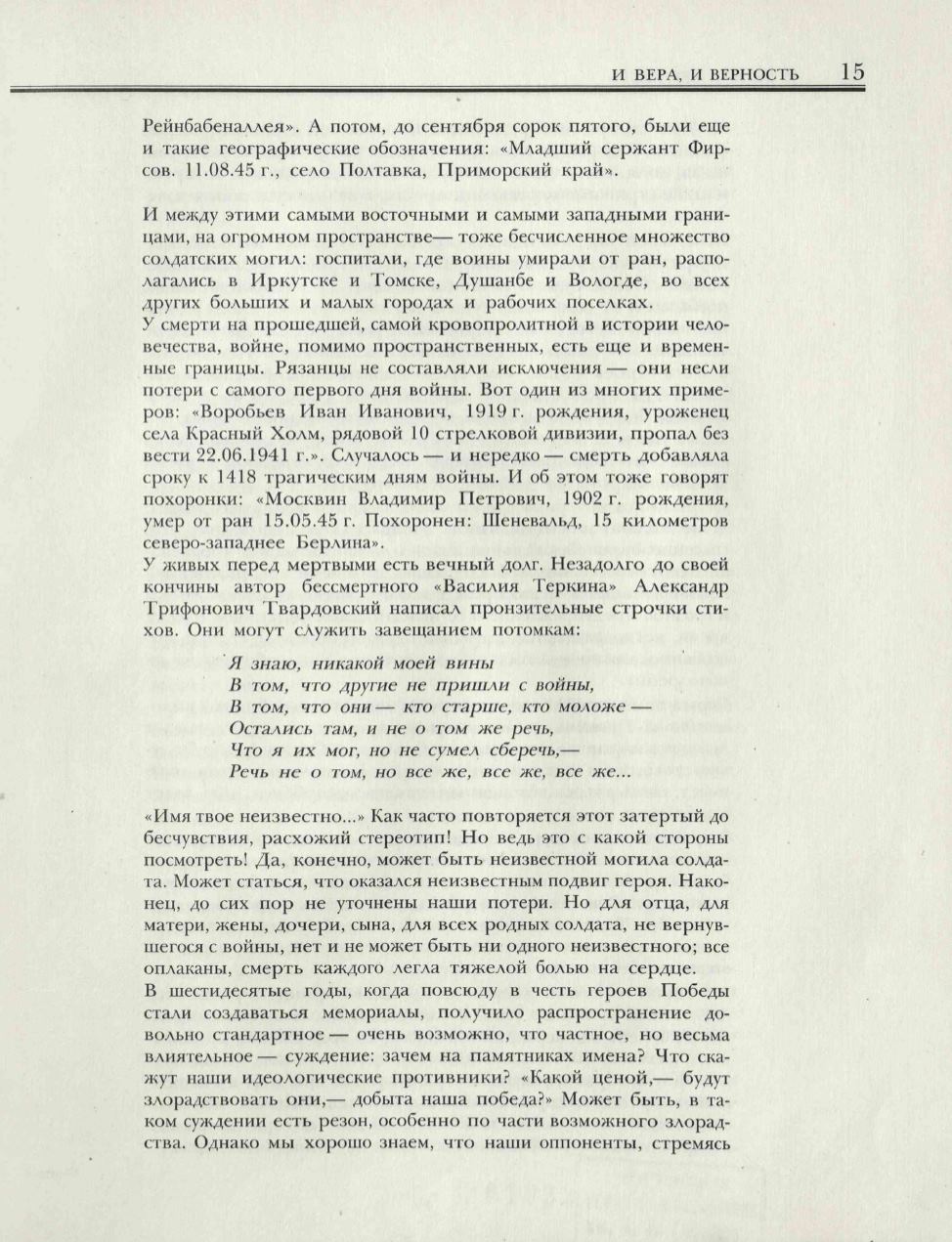
И ВЕРА, И ВЕРНОСТЬ
1 5
Рейнбабеналлея». А потом, до сентября сорок пятого, были еще
и такие географические обозначения: «Младший сержант Фир
сов. 11.08.45 г., село Полтавка, Приморский край».
И между этими самыми восточными и самыми западными грани
цами, на огромном пространстве— тоже бесчисленное множество
солдатских могил: госпитали, где воины умирали от ран, распо
лагались в Иркутске и Томске, Душанбе и Вологде, во всех
других больших и малых городах и рабочих поселках.
У смерти на прошедшей, самой кровопролитной в истории чело
вечества, войне, помимо пространственных, есть еще и времен
ные границы. Рязанцы не составляли исключения — они несли
потери с самого первого дня войны. Вот один из многих приме
ров: «Воробьев Иван Иванович, 1919 г. рождения, уроженец
села Красный Холм, рядовой 10 стрелковой дивизии, пропал без
вести 22.06.1941 г.». Случалось— и нередко— смерть добавляла
сроку к 1418 трагическим дням войны. И об этом тоже говорят
похоронки: «Москвин Владимир Петрович, 1902 г. рождения,
умер от ран 15.05.45 г. Похоронен: Шеневальд, 15 километров
северо-западнее Берлина».
У живых перед мертвыми есть вечный долг. Незадолго до своей
кончины автор бессмертного «Василия Теркина» Александр
Трифонович Твардовский написал пронзительные строчки сти
хов. Они могут служить завещанием потомкам:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не приш ли с войны,
В том, что о ни
—
кто старше, кто моложе
—
Остались там, и не о том же речь,
Что я и х мог, но не сумел сберечь
,—
Речь не о том, но все же, все же, все же...
«Имя твое неизвестно...» Как часто повторяется этот затертый до
бесчувствия, расхожий стереотип! Но ведь это с какой стороны
посмотреть! Да, конечно, может быть неизвестной могила солда
та. Может статься, что оказался неизвестным подвиг героя. Нако
нец, до сих пор не уточнены наши потери. Но для отца, для
матери, жены, дочери, сына, для всех родных солдата, не вернув
шегося с войны, нет и не может быть ни одного неизвестного; все
оплаканы, смерть каждого легла тяжелой болью на сердце.
В шестидесятые годы, когда повсюду в честь героев Победы
стали создаваться мемориалы, получило распространение до
вольно стандартное — очень возможно, что частное, но весьма
влиятельное — суждение: зачем на памятниках имена? Что ска
жут наши идеологические противники? «Какой ценой,— будут
злорадствовать они,— добыта наша победа?» Может быть, в та
ком суждении есть резон, особенно по части возможного злорад
ства. Однако мы хорошо знаем, что наши оппоненты, стремясь