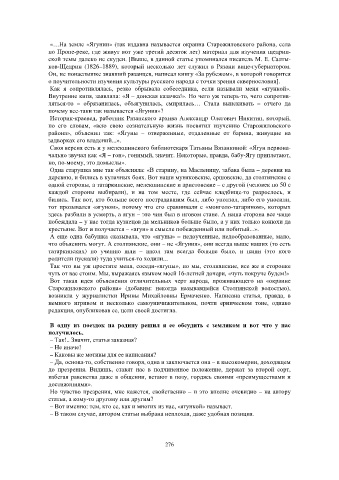Page 278 - Почему наши села так называются... Том 11. Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я
P. 278
«…На земле «Ягунии» (так издавна называется окраина Старожиловского района, села
по Проне-реке, где живут вот уже третий десяток лет) материал для изучения щедрин-
ской темы далеко не скуден. [Выше, в данной статье упоминался писатель М. Е. Салты-
ков-Щедрин (1826–1889), который несколько лет служил в Рязани вице-губернатором.
Он, не понаслышке знавший рязанцев, написал книгу «За рубежом», в которой говорится
о поучительности изучения культуры русского народа с точки зрения сквернословия].
Как я сопротивлялась, резко обрывала собеседника, если называли меня «ягункой».
Внутренне кипя, заявляла: «Я – донская казачка!». Но чего уж теперь-то, чего сопротив-
ляться-то – обрязанилась, объягунилась, смирилась… Стала выискивать – отчего да
почему все-таки так называется «Ягуния»?
Историк-краевед, работник Рязанского архива Александр Олегович Никитин, который,
по его словам, «всю свою сознательную жизнь посвятил изучению Старожиловского
района», объяснил так: «Ягуны – отверженные, отдаленные от барина, живущие на
задворках его владений...».
Своя версия есть и у мелекшинского библиотекаря Татьяны Вязанкиной: «Ягун первона-
чально звучал как «Я – гон», гонимый, значит. Некоторые, правда, бабу-Ягу приплетают,
но, по-моему, это домыслы».
Одна старушка мне так объясняла: «В старину, на Масленицу, забава была – деревня на
деревню, и бились в кулачных боях. Вот наши муняковские, ершовские, да столпянские с
одной стороны, а татаркинские, мелекшинские и аристовские – с другой (человек по 50 с
каждой стороны выбирали), и на том месте, где сейчас кладбище-то разрослось, и
бились. Так вот, кто больше всего пострадавшим был, либо уползал, либо его уносили,
тот прозывался «ягуном», потому что его сравнивали с «монголо-татарином», которых
здесь разбили в усмерть, а ягун – это чин был в иговом стане. А наша сторона все чаще
побеждала – у нас тогда кузнецов да мельников больше было, а у них только конюхи да
крестьяне. Вот и получается – «ягун» в смысле побежденный или побитый...».
А еще одна бабушка сказывала, что «ягуны» – недоученные, недообразованные, мало,
что объяснить могут. А столпянские, они – не «Ягуния», они всегда выше наших (то есть
татаркинских) по учению шли – школ там всегда больше было, и наши (это кого
родители пускали) туда учиться-то ходили...
Так что вы уж простите меня, соседи-«ягуны», но мы, столпянские, все же в сторонке
чуть от вас стоим. Мы, выражаясь языком моей 16-летней дочери, «чуть покруче будем!»
Вот такая идея объяснения отличительных черт народа, проживающего на «окраине
Старожиловского района» (добавим: некогда называвшейся Столпянской волостью),
возникла у журналистки Ирины Михайловны Ермаченко. Написана статья, правда, в
немного игривом и несколько самоуничижительном, почти ерническом тоне, однако
редакция, опубликовав ее, цели своей достигла.
В одну из поездок на родину решил я ее обсудить с земляком и вот что у нас
получилось.
– Так!.. Значит, статья заказная?
– Не иначе!
– Каковы же мотивы для ее написания?
– Да, основа-то, собственно говоря, одна и заключается она – в высокомерии, доходящем
до презрения. Видишь, ставят нас в подчиненное положение, держат за второй сорт,
избегая равенства даже в общении, встают в позу, гордясь своими «преимуществами и
достижениями».
Но чувство презрения, мне кажется, свойственно – и это вполне очевидно – на автору
статьи, а кому-то другому или другим?
– Вот именно: тем, кто ее, как и многих из нас, «ягункой» называет.
– В таком случае, автором статьи выбрана неплохая, даже удобная позиция.
276