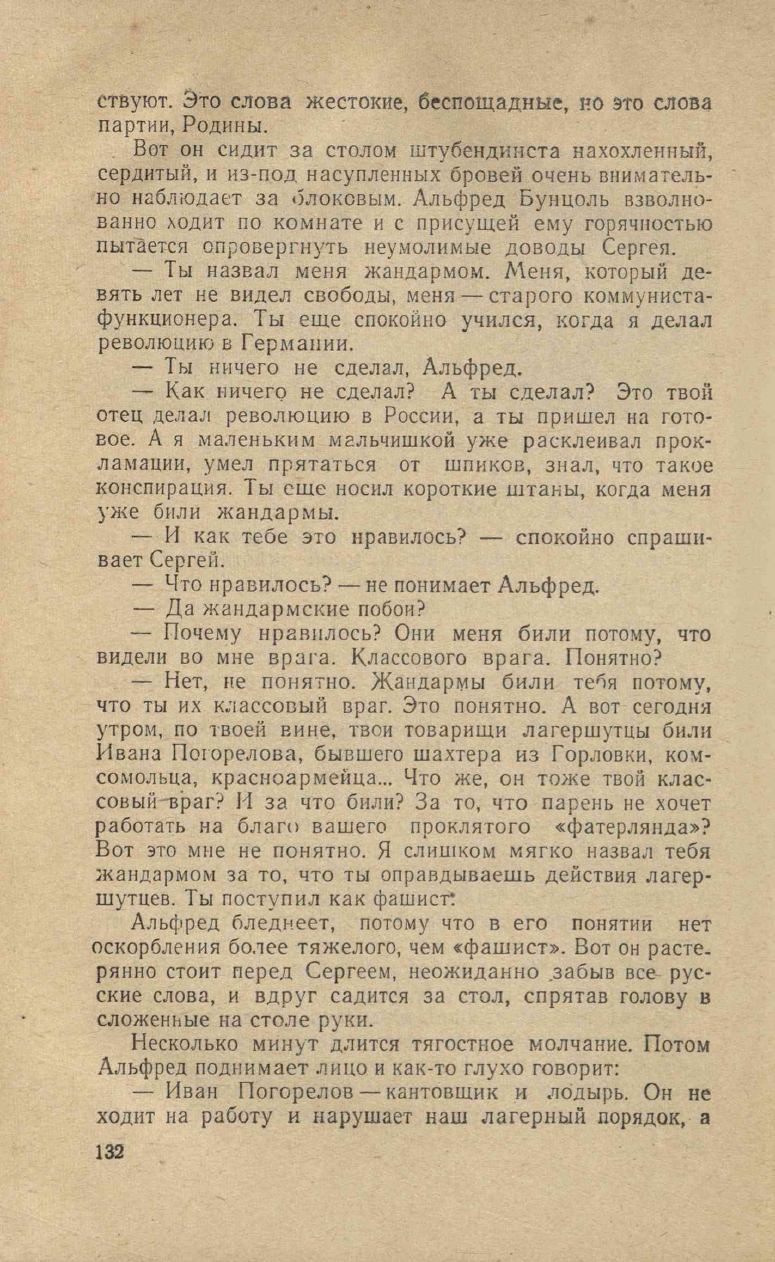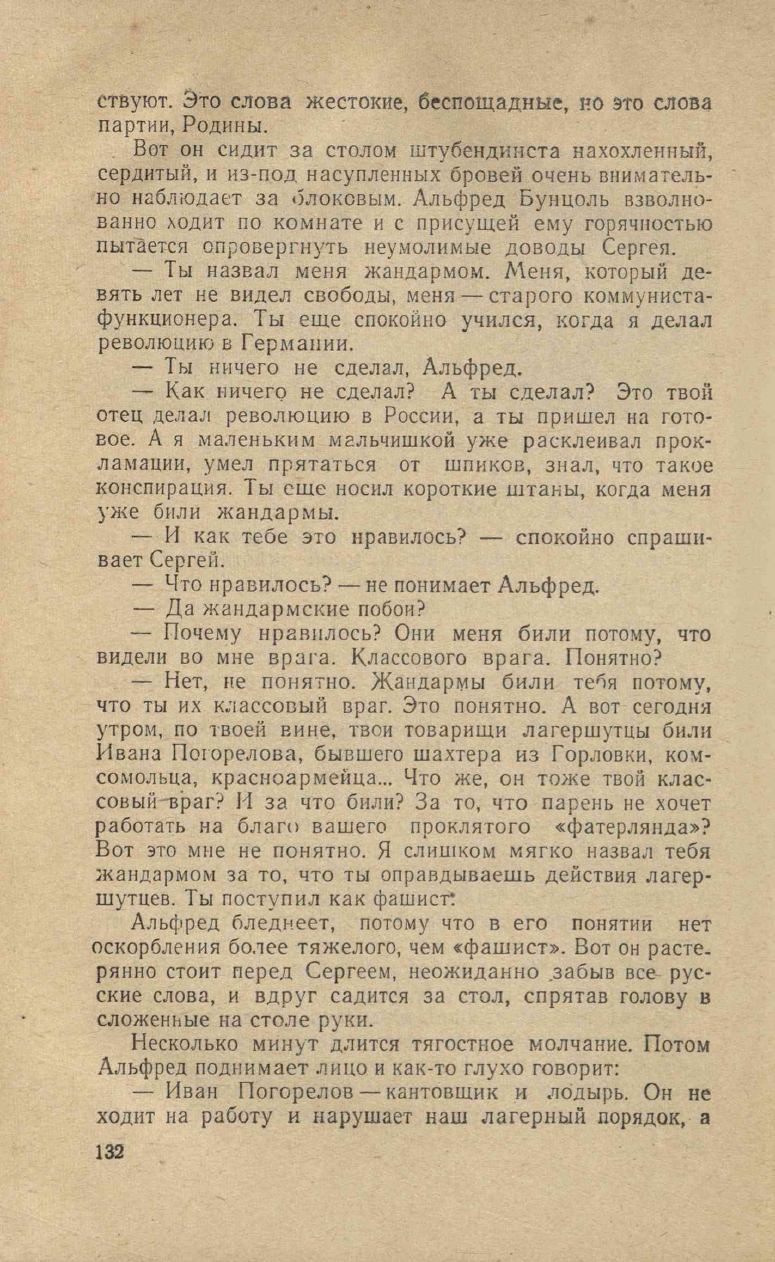
етвуют. Это слова жестокие, беспощадные, но это слова
партии, Родины.
Вот он сидит за столом штубендинста нахохленный,
сердитый, и из-под насупленных бровей очень вниматель
но наблюдает за блоковым. Альфред Бунцоль взволно
ванно ходит по комнате и с присущей ему горячностью
пытается опровергнуть неумолимые доводы Сергея.
— Ты назвал меня жандармом. Меня, который де
вять лет не видел свободы, меня —старого коммуниста-
функционера. Ты еще спокойно учился, когда я делал
революцию в Германии.
— Ты ничего не сделал, Альфред.
— Как ничего не сделал? А ты сделал? Это твой
отец делал революцию в России, а ты пришел на гото
вое. А я маленьким мальчишкой уже расклеивал прок
ламации, умел прятаться от шпиков, знал, что такое
конспирация. Ты еще носил короткие штаны, когда меня
уже били жандармы.
— И как тебе это нравилось? — спокойно спраши
вает Сергей.
— Что нравилось? —не понимает Альфред.
— Да жандармские побои?
— Почему нравилось? Они меня били потому, что
видели во мне врага. Классового врага. Понятно?
— Нет, не понятно. Жандармы били тебя потому,
что ты их классовый враг. Это понятно. А вот сегодня
утром, по твоей вине, твои товарищи лагершутцы били
Ивана Погорелова, бывшего шахтера из Горловки, ком
сомольца, красноармейца... Что же, он тоже твой клас
совый драг? И за что били? За то, что парень не хочет
работать на благо вашего проклятого «фатерлянда»?
Вот это мне не понятно. Я слишком мягко назвал тебя
жандармом за то, что ты оправдываешь действия лагер-
шутцев. Ты поступил как фашист
Альфред бледнеет, потому что в его понятии нет
оскорбления более тяжелого, чем «фашист». Вот он расте.
рянно стоит перед Сергеем, неожиданно забыв все рус
ские слова, и вдруг садится за стол, спрятав голову в
сложенные на столе руки.
Несколько минут длится тягостное молчание. Потом
Альфред поднимает лицо и как-то глухо говорит:
— Иван Погорелов —кантовщик и лодырь. Он не
ходит на работу и нарушает наш лагерный порядок, а
132