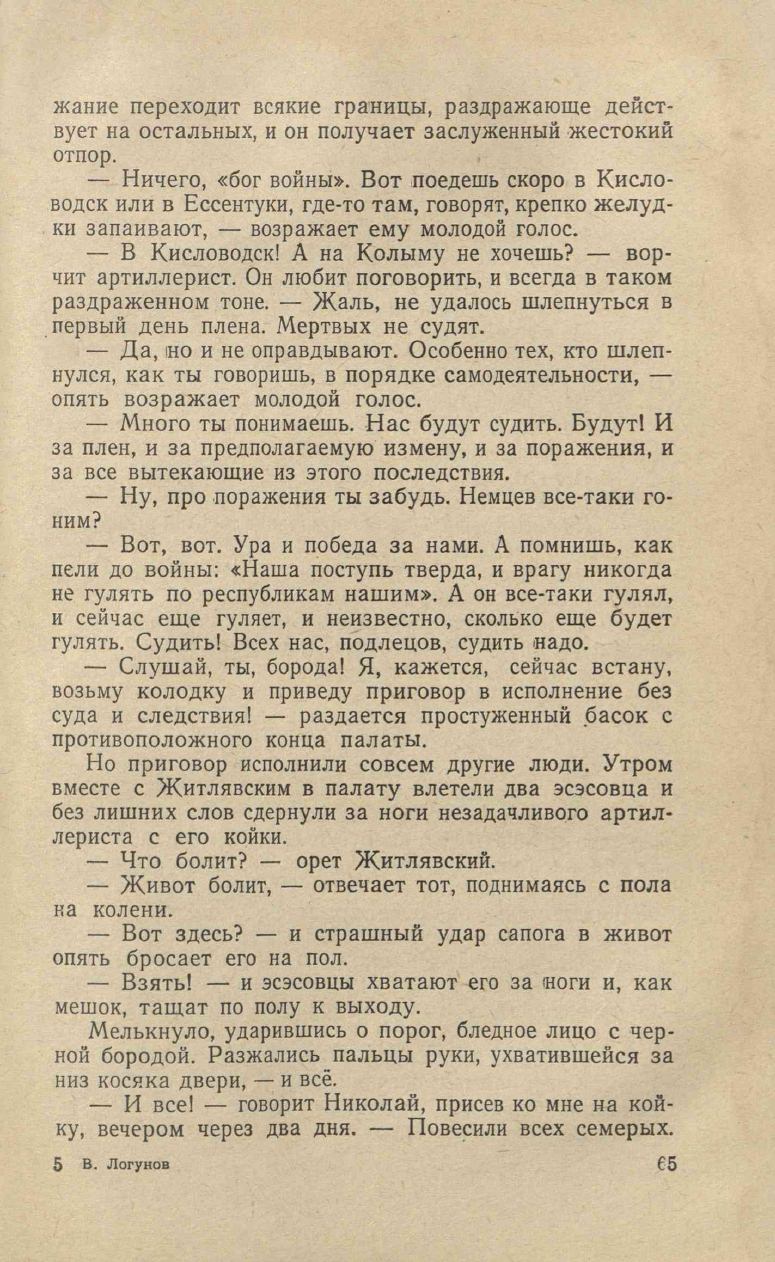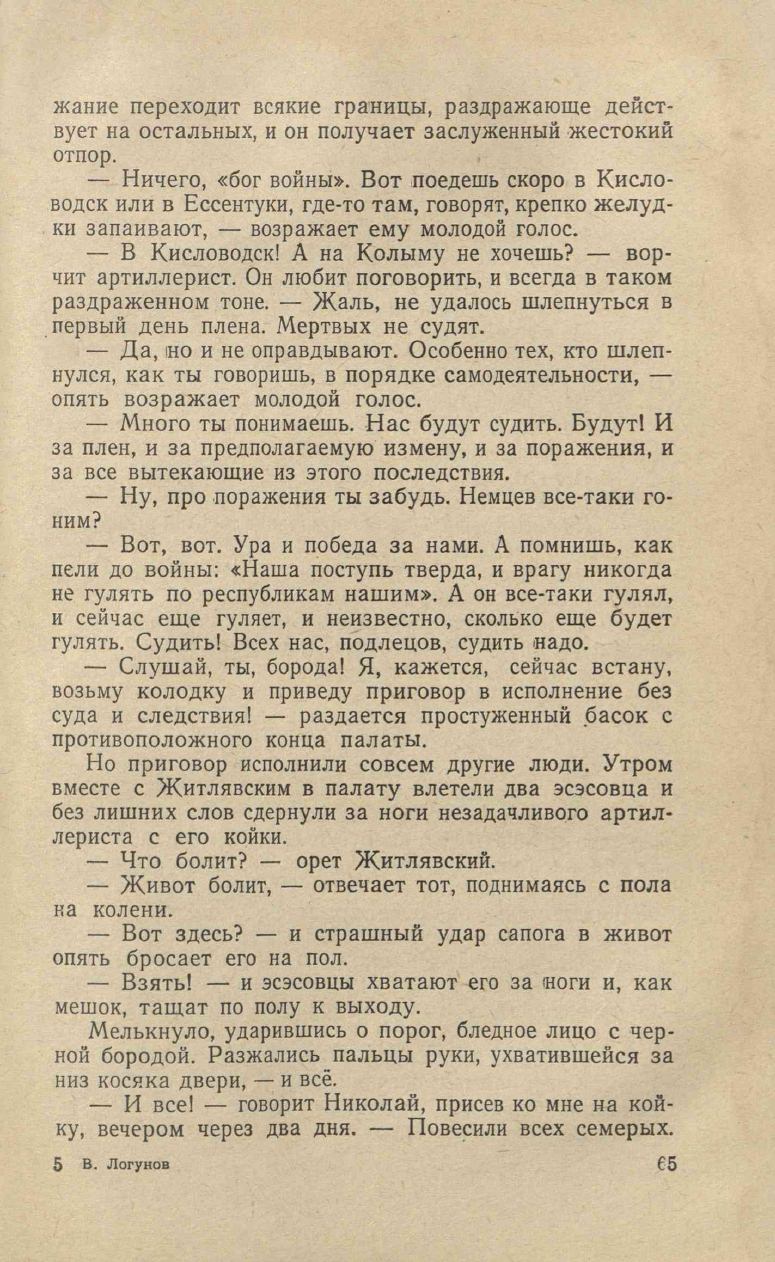
жание переходит всякие границы, раздражающе дейст
вует на остальных, и он получает заслуженный жестокий
отпор.
— Ничего, «бог войны». Вот поедешь скоро в Кисло
водск или в Ессентуки, где-то там, говорят, крепко желуд
ки запаивают, — возражает ему молодой голос.
— В Кисловодск! А на Колыму не хочешь? — вор
чит артиллерист. Он любит поговорить, и всегда в таком
раздраженном тоне. — Жаль, не удалось шлепнуться в
первый день плена. Мертвых не судят.
— Да, іно и не оправдывают. Особенно тех, кто шлеп
нулся, как ты говоришь, в порядке самодеятельности, —
опять возражает молодой голос.
— Много ты понимаешь. Нас будут судить. Будут! И
за плен, и за предполагаемую измену, и за поражения, и
за все вытекающие из этого последствия.
— Ну, про поражения ты забудь. Немцев все-таки го
ним?
— Вот, вот. Ура и победа за нами. А помнишь, как
пели до войны: «Наша поступь тверда, и врагу никогда
не гулять по республикам нашим». А он все-таки гулял,
и сейчас еще гуляет, и неизвестно, сколько еще будет
гулять. Судить! Всех нас, подлецов, судить надо.
— Слушай, ты, борода! Я, кажется, сейчас встану,
возьму колодку и приведу приговор в исполнение без
суда и следствия! — раздается простуженный басок с
противоположного конца палаты.
Но приговор исполнили совсем другие люди. Утром
вместе с Житлявским в палату влетели два эсэсовца и
без лишних слов сдернули за ноги незадачливого артил
лериста с его койки.
— Что болит? — орет Житлявский.
— Живот болит, — отвечает тот, поднимаясь с пола
на колени.
— Вот здесь? — и страшный удар сапога в живот
опять бросает его на пол.
— Взять! — и эсэсовцы хватают его за моги и, как
мешок, тащат по полу к выходу.
Мелькнуло, ударившись о порог, бледное лицо с чер
ной бородой. Разжались пальцы руки, ухватившейся за
низ косяка двери, —и всё.
— И все! — говорит Николай, присев ко мне на кой
ку, вечером через два дня. — Повесили всех семерых.
65
5 В. Логунов