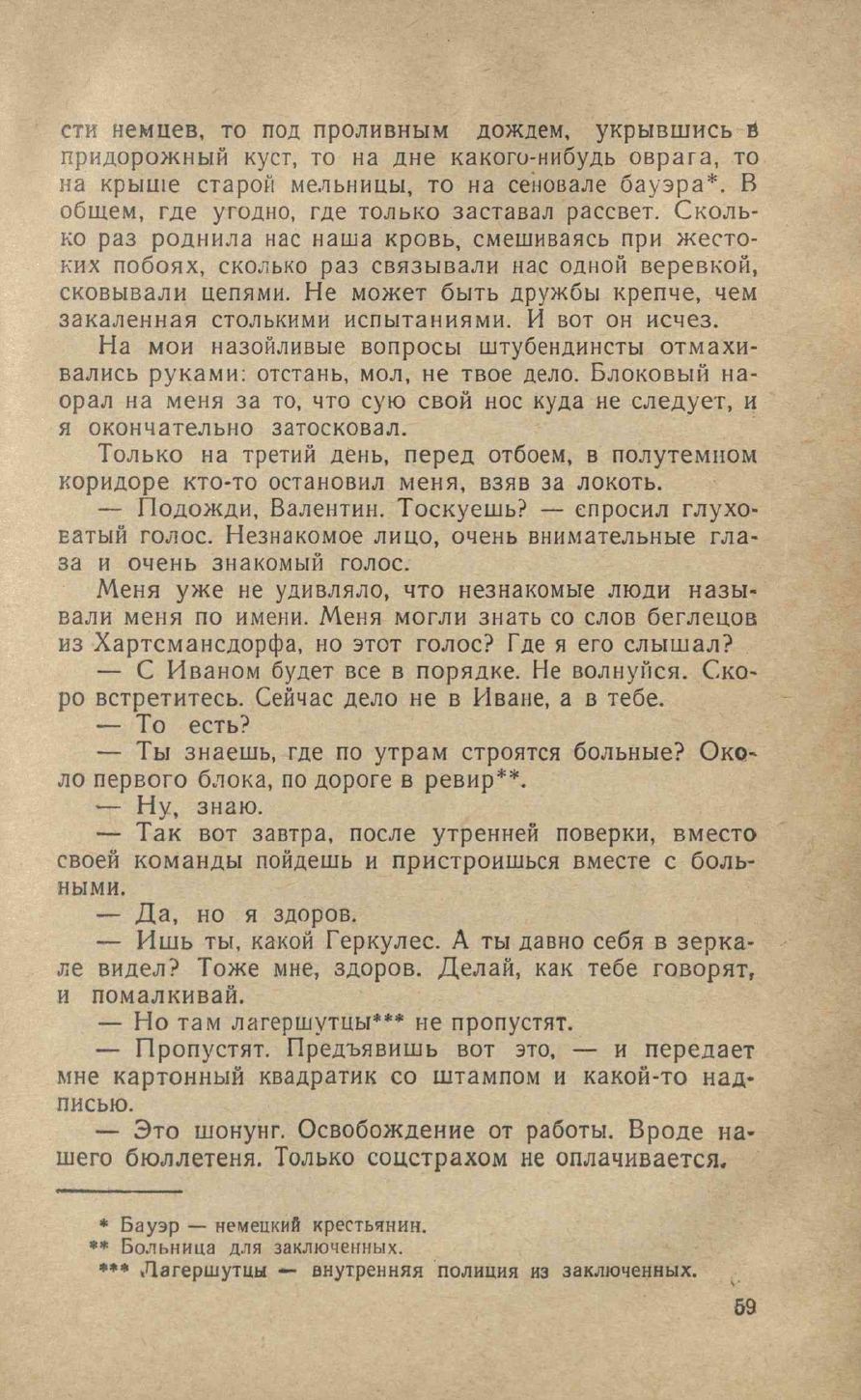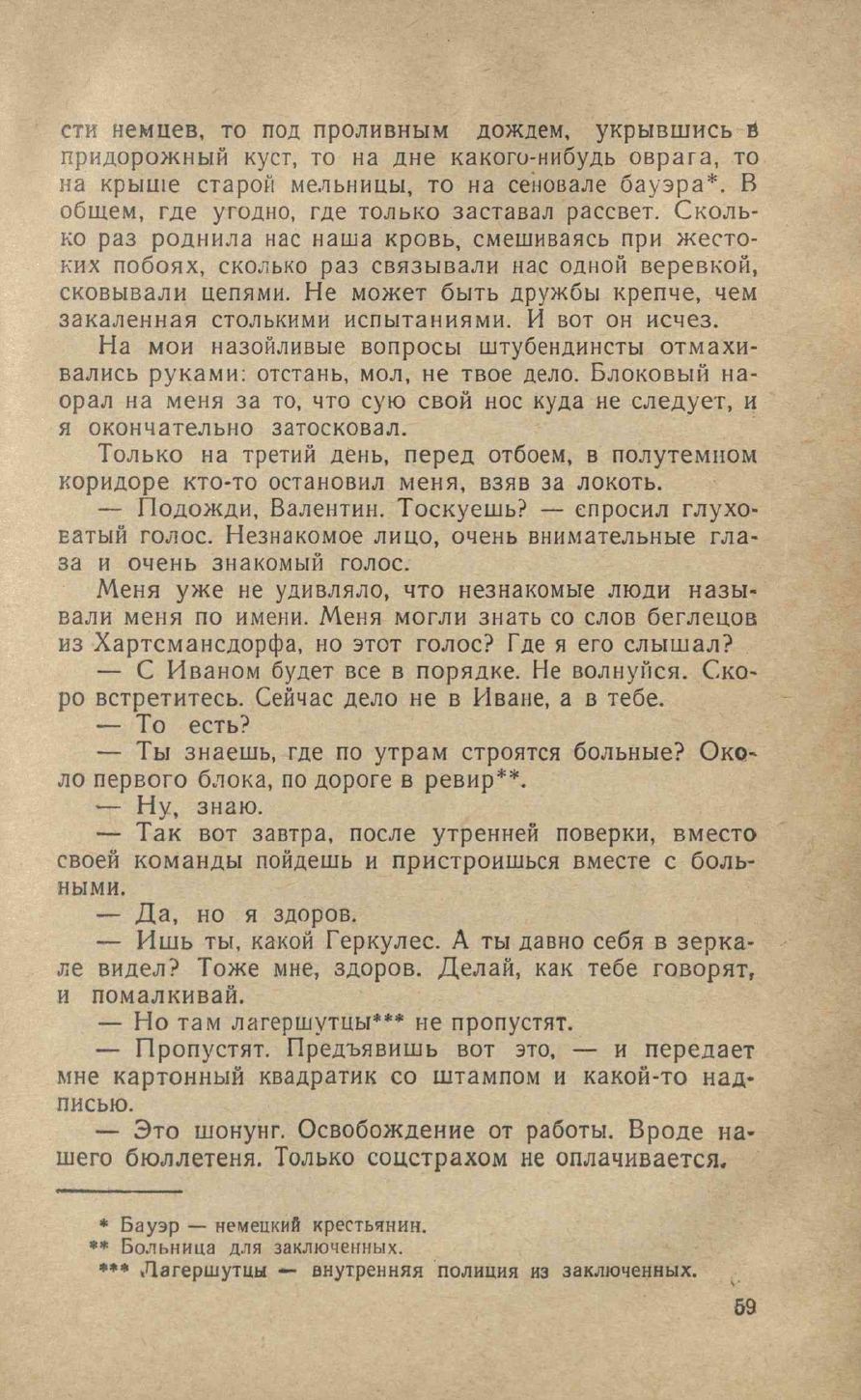
сти немцев, то под проливным дождем, укрывшись в
придорожный куст, то на дне какого-нибудь оврага, то
на крыше старой мельницы, то на сеішвале бауэра*. В
общем, где угодно, где только заставал рассвет. Сколь
ко раз роднила нас наша кровь, смешиваясь при жесто
ких побоях, сколько раз связывали нас одной веревкой,
сковывали цепями. Не может быть дружбы крепче, чем
закаленная столькими испытаниями. И вот он исчез.
На мои назойливые вопросы штубендинсты отмахи
вались руками: отстань, мол, не твое дело. Блоковый на
орал на меня за то, что сую свой нос куда не следует, и
я окончательно затосковал.
Только на третий день, перед отбоем, в полутемном
коридоре кто-то остановил меня, взяв за локоть.
— Подожди, Валентин. Тоскуешь? — спросил глухо-
Еатый
голос. Незнакомое лицо, очень внимательные гла
за и очень
знакомый
голос.
Меня уже не удивляло, что незнакомые люди назы
вали меня по имени. Меня могли знать со слов беглецов
из Хартсмансдорфа, но этот голос? Где я его слышал?
— С Иваном будет все в порядке. Не волнуйся. Ско-
ро встретитесь. Сейчас дело не в Иване, а в тебе.
— То есть?
— Ты знаешь, где по утрам строятся больные? Око
ло первого блока, по дороге в ревир**.
— Ну, знаю.
— Так вот завтра, после утренней поверки, вместо
своей команды пойдешь и пристроишься вместе с боль
ными.
— Да, но я здоров.
— Ишь ты, какой Геркулес. А ты давно себя в зерка
ле видел? Тоже мне, здоров. Делай, как тебе говорят,
и помалкивай.
— Но там лагершутцы*** не пропустят.
— Пропустят. Предъявишь вот это, — и передает
мне картонный квадратик со штампом и какой-то над
писью.
— Это шонунг. Освобождение от работы. Вроде на
шего бюллетеня. Только соцстрахом не оплачивается.
* Бауэр — немецкий крестьянин.
** Больница для заключенных.
*** Лагершутцы — внутренняя полиция из заключенных.
59