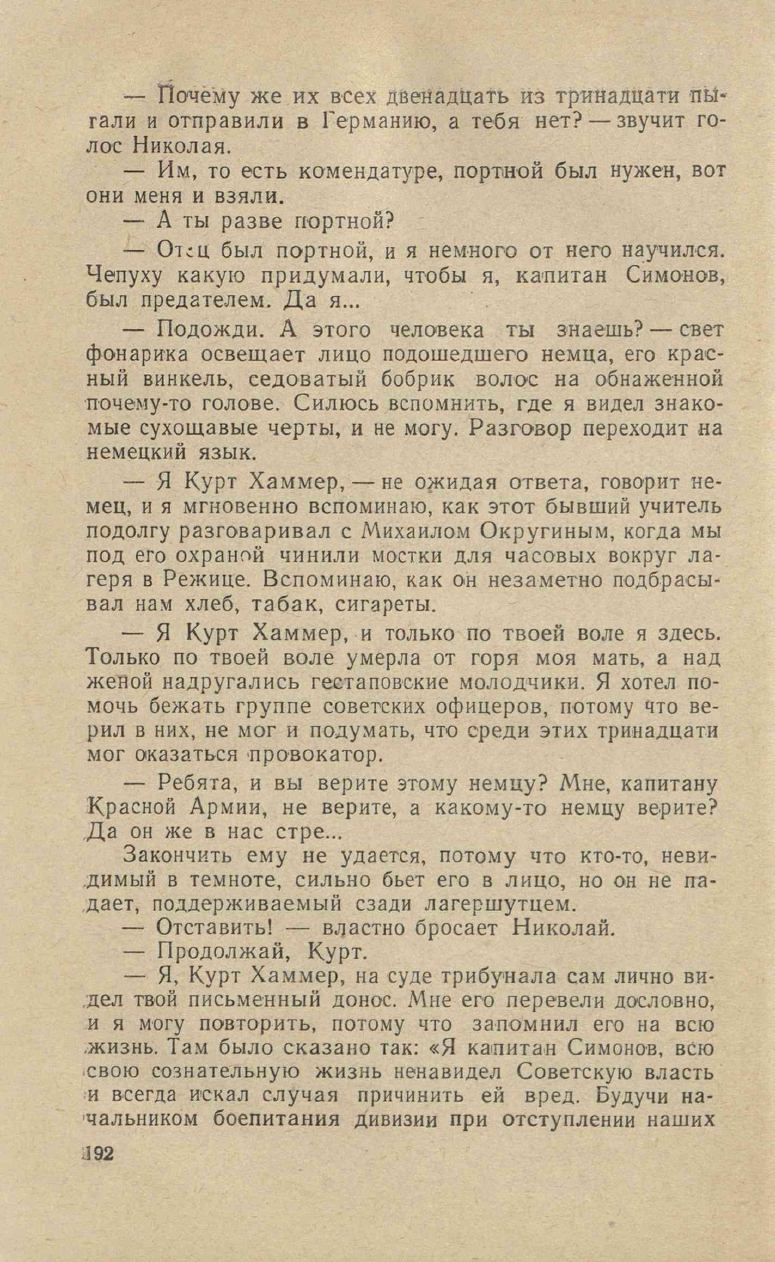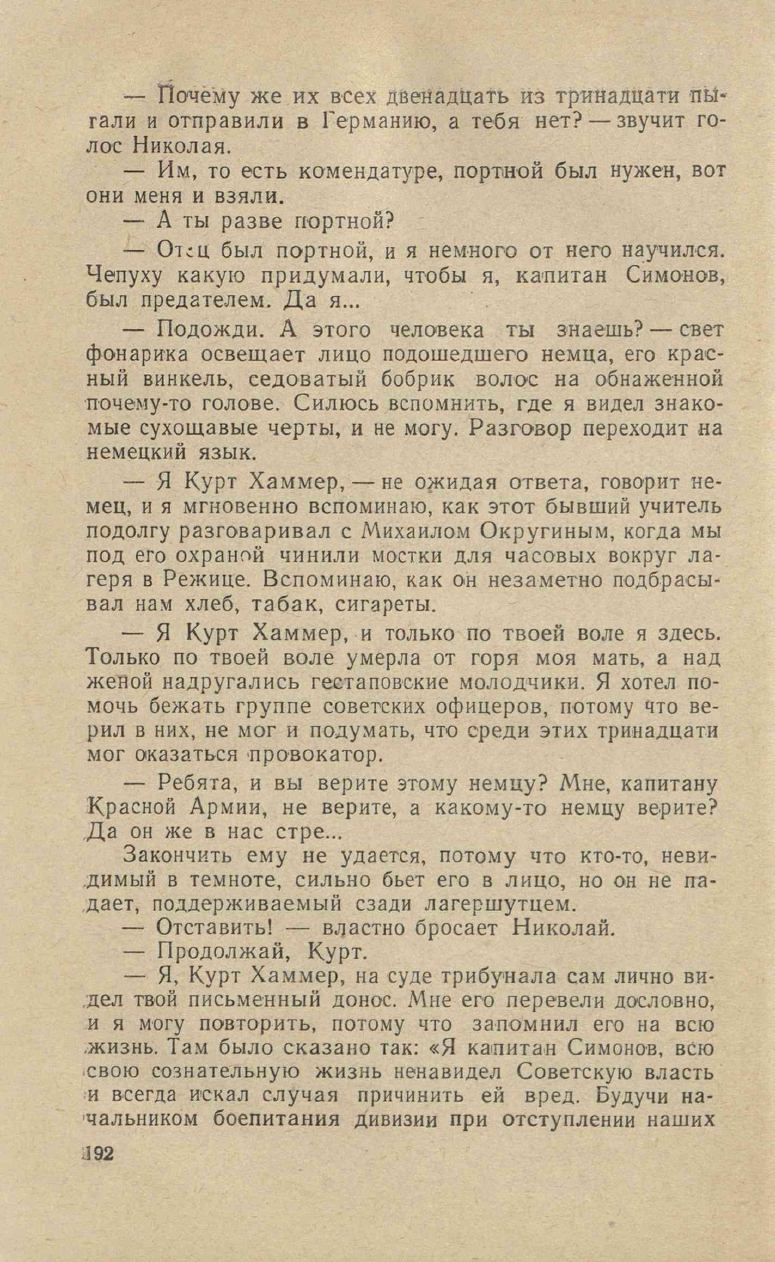
— Почему же их всех двенадцать из тринадцати пы
тали и отправили в Германию, а тебя нет? — звучит го
лос Николая.
— Им, то есть комендатуре, портной был нужен, вот
они меня и взяли.
— А ты разве портной?
— О
тіц
был портной, и я немного от него научился.
Чепуху какую придумали, чтобы я, капитан Симонов,
был предателем. Д а я...
— Подожди. А этого человека ты знаешь? — свет
фонарика освещает лицо подошедшего немца, его крас
ный винкель, седоватый бобрик волос на обнаженной
почему-то голове. Силюсь вспомнить, где я видел знако
мые сухощавые черты, и не могу. Разговор переходит на
немецкий язык.
— Я Курт Хаммер, — не ожидая ответа, говорит не
мец, и я мгновенно вспоминаю, как этот бывший учитель
подолгу разговаривал с Михаилом Округиным, когда мы
под его охраной чинили мостки для часовых вокруг ла
геря в Режице. Вспоминаю, как он незаметно подбрасы
вал нам хлеб, табак, сигареты.
— Я Курт Хаммер, и только по твоей воле я здесь.
Только по твоей воле умерла от горя моя мать, а над
женой надругались гестаповские молодчики. Я хотел по
мочь бежать группе советских офицеров, потому что ве
рил в них, не мог и подумать, что среди этих тринадцати
мог оказаться провокатор.
— Ребята, и вы верите этому немцу? Мне, капитану
Красной Армии, не верите, а какому-то немцу верите?
Да он же в нас стре...
Закончить ему не удается, потому что кто-то, неви
димый в темноте, сильно бьет его в лицо, но он не па
дает, поддерживаемый сзади лагершутцем.
— Отставить! — властно бросает Николай.
— Продолжай, Курт.
— Я, Курт Хаммер, на суде трибунала сам лично ви
дел твой письменный донос. Мне его перевели дословно,
и я могу повторить, потому что запомнил его на всю
жизнь. Там было сказано так: «Я капитан Симонов, всю
свою сознательную жизнь ненавидел Советскую власть
и всегда искал случая причинить ей вред. Будучи на
чальником боепитания дивизии при отступлении наших
.392