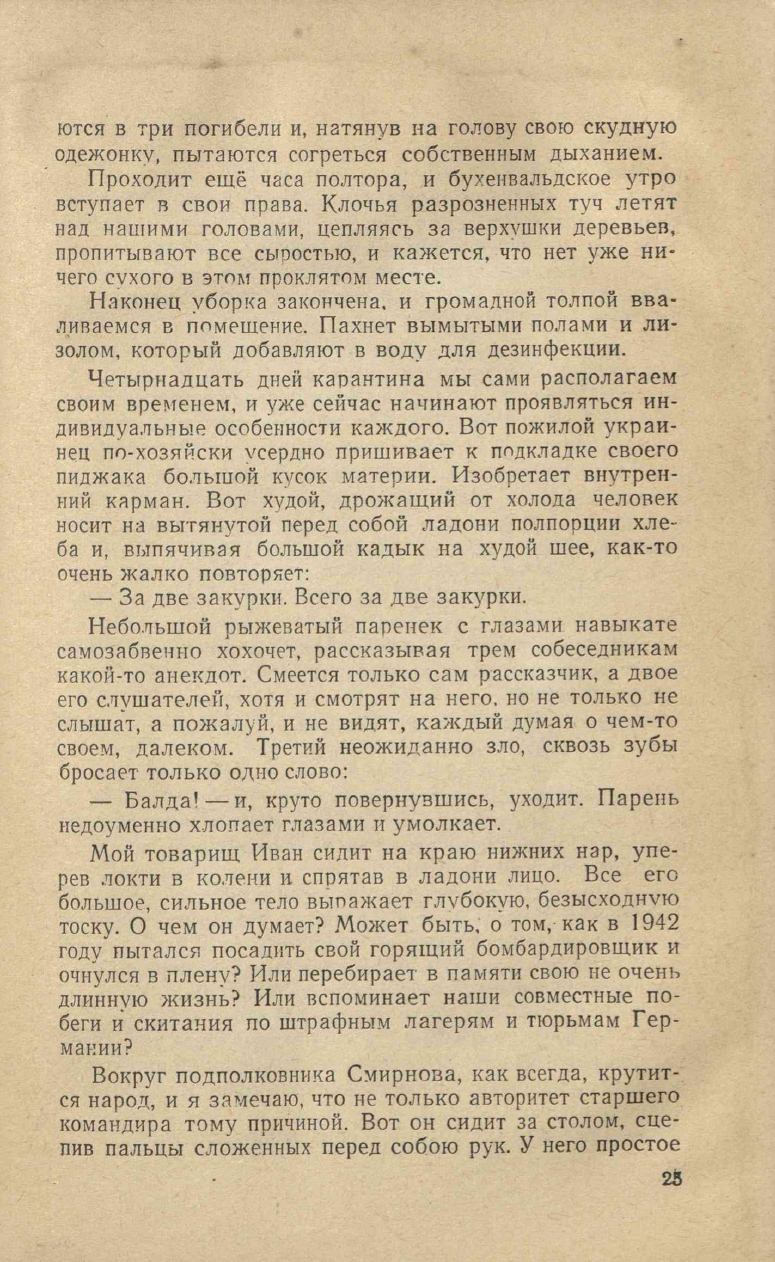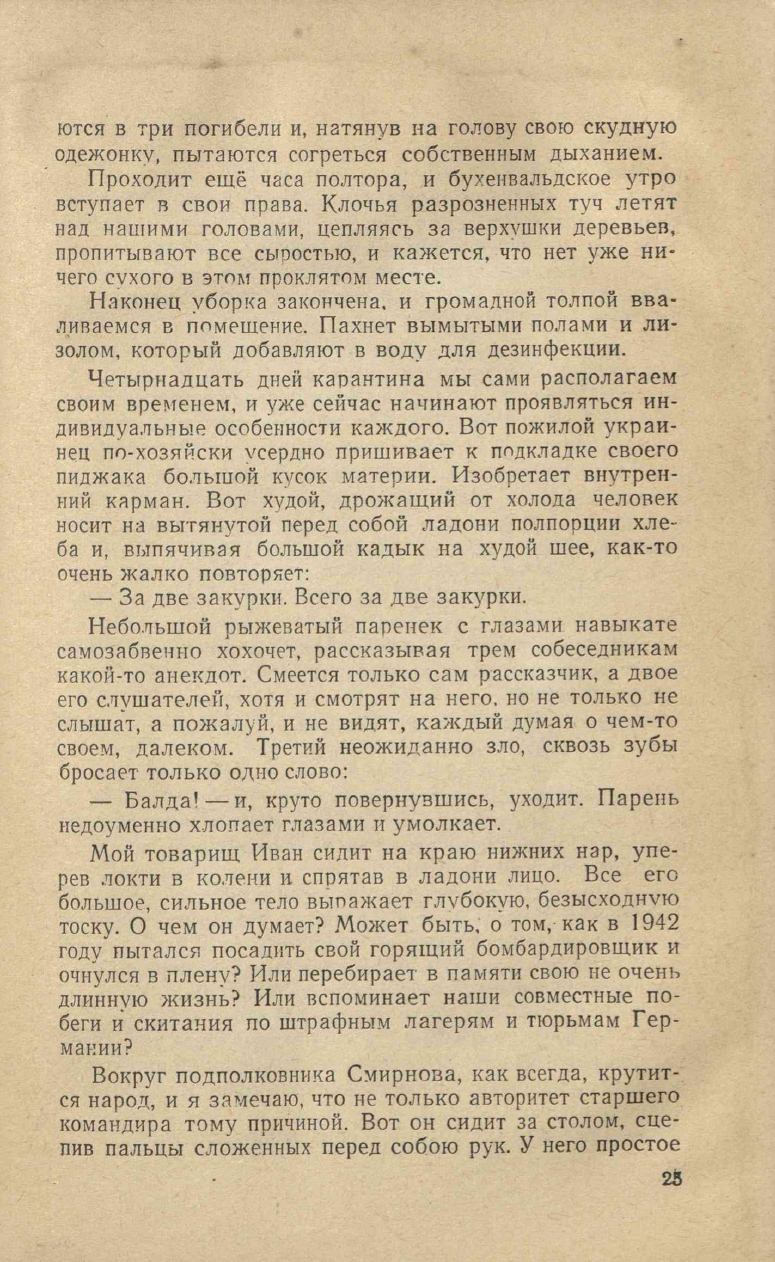
ются в три погибели и, натянув на голову свою скудную
одежонку, пытаются согреться собственным дыханием.
Проходит ещё часа полтора, и бухенвальдское утро
вступает в свои права. Клочья разрозненных туч летят
над нашими головами, цепляясь за верхушки деревьев,
пропитывают все сыростью, и кажется, что нет уже ни
чего сухого в этом проклятом месте.
Наконец уборка закончена, и громадной толпой вва
ливаемся в помещение. Пахнет вымытыми полами и ли
золом, который добавляют в воду для дезинфекции.
Четырнадцать дней карантина мы сами располагаем
своим временем, и уже сейчас начинают проявляться ин
дивидуальные особенности каждого. Вот пожилой украи
нец по-хозяйски усердно пришивает к подкладке своего
пиджака большой кусок материи. Изобретает внутрен
ний карман. Вот худой, дрожащий от холода человек
носит на вытянутой перед собой ладони полпорции хле
ба и, выпячивая большой кадык на худой шее, как-то
очень жалко повторяет:
— За две закурки. Всего за две закурки.
Небольшой рыжеватый паренек с глазами навыкате
самозабвенно хохочет, рассказывая трем собеседникам
какой-то анекдот. Смеется только сам рассказчик, а двое
его слушателей, хотя и смотрят на него, но не только не
слышат, а пожалуй, и не видят, каждый думая о чем-то
своем, далеком. Третий неожиданно зло, сквозь зубы
бросает только одно слово:
— Балда! — и, круто повернувшись, уходит. Парень
недоуменно хлопает глазами и умолкает.
Мой товарищ Иван сидит на краю нижних нар, упе
рев локти в колени и спрятав в ладони лицо. Все его
большое, сильное тело выпажает глубокую, безысходную
тоску. О чем он думает? Может быть, о том,-как в 1942
году пытался посадить свой горящий бомбардировщик и
очнулся в плену? Или перебирает в памяти свою не очень
длинную жизнь? Или вспоминает наши совместные по
беги и скитания по штрафным лагерям и тюрьмам Гер
мании?
Вокруг подполковника Смирнова, как всегда, крутит
ся народ, и я замечаю, что не только авторитет старшего
командира тому причиной. Вот он сидит за столом, сце
пив пальцы сложенных перед собою рук. У него простое
25